Если бы я был Сэмюэлом Беккетом
Если бы я был Сэмюэлем Беккетом (Samuel Becket), то родился бы 13 апреля (а когда же ещё?) 1906 года в Дублине (а где же ещё?). Откровенно говоря, ни то ни другое не имеет значения, поскольку я не в восторге от этой бессмысленной затеи. Но, поскольку появление и исчезновение любого человеческого существа как-то фиксируют, то поневоле приходится иметь место и дату рождения. Когда-то давно, когда нас было не так уж и много, это казалось важным, чтобы никто не ускользнул. Потому что дел было много, а людей — наоборот.
Ныне, приближаясь к шестому миллиарду, можно вздохнуть с облегчением. Этот вздох мог раздаться уже и на пятом миллиарде или на четвертом, или на третьем с половиной. А если вспомнить о миллионах, тысячах, сотнях и так далее, до самых единиц (и даже до дробных частей, учитывая пользу, приносимую инвалидами), то можно и более точно вздохнуть. Это количество ещё предстоит подсчитать, высвободившимся от научно-технического прогресса, ученым с доступной на сегодняшний момент точностью.
Однако следует спешить, потому что многие уже маются без дела, и пора бы уже потихоньку начать пропускать мимо какую-то часть.
Впрочем, это дело будущего, а в начале ХХ века, 13 апреля 1906 года в городе Бале-Аха-Клиах (второе название Дублина) твердой, не сомневающейся рукой ирландского бюрократа было зафиксировано появление Сэмюэла Беккета.
Если бы я был Беккетом, то в семье землемера Уильяма стал бы младшим сыном, потому что не очень спешил бы родиться. Меня бы произвела на свет его жена Мери, дочь богатых родителей из графства Килдер, потому что у любой среднестатистической Мери мало интересного в жизни — пусть хотя бы одна, та что из графства Килдер, родит Беккета.
И пусть она будет немного богатой, чтобы юный Сэмюэл (а я бы хотел быть некоторое время юным, особенно в начале жизни) поступил сначала в частную привилегированную школу, а затем в Эрлсфортский интернат.
Посоветовавшись с отцом-землемером, который желал бы мне только добра, я бы, конечно, направился учиться в Портора-Ройэл-скул, что в Северной Ирландии, где немедленно увлекся всеми видами английского спорта кроме футбола, а именно: крикетом, регби, боксом и плаванием.
Особенно я бы увлекся плаванием. Я бы добавил немного плавания Беккету. С плаванием у меня всегда было туго. Никак не могу спокойно дышать в воде. Точнее говоря, выдыхать изо рта в воду. Мне кажется, я слишком шумно это делаю, и все купающиеся слышат моё бурление. В одиночестве я бурлю довольно свободно, но когда рядом плывут, это заставляет меня быть менее бурлящим и лишает выносливости. Я бы увлекся плаванием только потому, что хотел бы, наконец, научиться как следует выдыхать. Как-нибудь под себя и вдоль тела. Как-нибудь научился бы. Беккет бы меня простил.
Потом, в 1927 году я бы получил диплом бакалавра и занялся преподаванием английского языка. Потом я бы выучился на магистра искусств в дублинском Тринити-колледже. Я знаю, это мало кому интересно, но всё равно сейчас вам придется прочесть, что это случилось в 1931 году. Я подожду, пока вы прочтете…
Вот и прочли.
Никто и не обещал, что будет интересно. Известно лишь то, что что-то будет. Вы можете закончить читать прямо сейчас. Мне, как Беккету, это всё равно.
Во-первых — такой характер, а во-вторых, я уже умер. Восьмидесятитрехлетним парижанином. Об этом пока рано говорить (идет 1931 год), но раз уж подвернулся случай, давайте закроем тему.
Под занавес жизни я стал отшельником, и они узнали о том, что моё тело приобрело свойства мертвого, лишь когда перестали приходить новые пьесы. Им оставалось только найти и препарировать Беккета для музея литературы. Это было легко, потому что я потерял способность убегать. Единственная радость нового социального статуса состояла в том, что теперь можно было всё время молчать, и это никого не удивляло…
“Нет ничего более гротескного, чем трагическое, и это должно выражаться до самого конца пьесы, и в высшей степени в конце…”
Но оставим хэппи-энд и продолжим наше пресное повествование.
Из этой жизни необходимо было что-то сделать.
Беккет познакомился с Джеймсом Джойсом. Если кто не знает, Джойс представитель модернистской и постмодернистской прозы. Он и в жизни был таким — полуслепым представителем постмодернизма. Я бы помогал ему в работе над романом “Поминки по Финнегану”. Нас связывала его близорукость и неудовлетворенность Ирландией. Был какой-то пунктик насчет “гнета ирландской жизни”. Писать в Ирландии в то время было трудно.
Что ещё…
Если бы я был Беккетом, я бы написал пьесу “В ожидании Годо”… Нет, подождите, не сразу. Сначала я бы писал рассказы. Работая учителем, мне бы не оставалось ничего более, как писать рассказы. Я бы придумывал своим сборникам рассказов остроумные названия. Например, “Больше кнутов, чем пряников” (More Pricks than Kicks, 1934). Я вообще был бы в этом силен. В юморе. Я бы шутил грубо и смешно. Мне нравится быть грубым и шокирующим где-нибудь в середине текста. Но лучше я ничего не буду говорить, я лучше напишу приблизительно так:
“Как-то, вернувшись из сортира, я обнаружил свою комнату запертой, а пожитки сваленными грудой перед дверью. Это даст вам какое-то представление о том, какие у меня в ту пору бывали запоры…” (рассказ “Первая любовь”, 1946).
Потом бы я написал “Годо”. Нет, не тогда.
Сначала бы я утомительно путешествовал по Европе, нервничая. Нервные срывы. Оттого и запоры. Откровенно говоря, нет ничего более полезного для творчества, чем они.
Конечно, это было не так весело, как сейчас вспоминается.
“Если бы я мог распоряжаться своим телом, я бы выбросил его в окно”.У многих так начиналось. Я бы не сказал ничего нового, если бы в 1956 году сказал бы примерно так: “Ни публичный успех, ни провал никогда много для меня не значили. На самом деле, последний мне даже предпочтительней, поскольку я уже изведал его живительный воздух”.
Ну, это даже слишком красиво сказано, потому что знаешь, что потом это где-то появится, и все будут говорить, что Беккет сказал вот так и так. Я отдал им эту банальность.
Потом я бы написал роман “Мерфи” (Murphy, 1938) с началом из слов: “За неимением выбора солнце сияло над миром, где ничто не ново”.
В это время я всё ещё пишу это по-английски. Перейду на французский после войны. После фашистов. Есть неотложные дела: война, пули, тушенка... Я — участник Сопротивления. И вот уже бегу от гестапо в Руссийон на юг Франции с будущей женой — пианисткой Сюзанн Дюмесни (я так себе всё и представлял). Притворившись разнорабочим, я пишу роман “Уотт”. Теперь уже точно последний роман на английском языке. Это роман про Уотта. Там мало событий, потому что Уотт постоянно думает. Ему некогда заниматься ерундой. Ему надо думать. Надо думать, думать. Думать. Ему говорят: “Уотт, думай!” И он думает.
Или не так. Что-то изнутри головы говорит: “Думай”… Это точно неизвестно. Мне вообще мало что известно о том, что я пишу.
Парадоксально, но от этого я чувствую себя всемогущим. Я могу заполнять и заполнять страницы словами. И они не заканчиваются. Я — великий и гениальный зануда-Беккет! Беккет-грузовик! Беккет, изнуряющий читателя текстом, бесконечно повторяющимися вариантами одного и того же!
Одного и того же. Одного и того же. Одного и того же. Вот, как сейчас. Да.
Одного и того же. Ещё разок:
Одного и того же.
Какой кайф! (rush по-английски). Потрясающе!
В 1944 всё закончено. Разум победил Уотта. Уотт собирает чемоданы и идет на вокзал.
1954 год. Очередь за “Годо”. Все в ожидании, когда, наконец, появится театр абсурда.
Вот он:
1. Отсутствие четкой сюжетной линии.
2. Главный мотив — неспособность людей понять смысл мира или безуспешные попытки рационализировать иррациональное.
3. Язык как способ общения — несостоятелен, и выступает в роли препятствия между людьми. Слова становятся бессмысленными, а говорящие друг с другом люди — одинокими.
Публика и критика раздражены. Двое бродяг безрезультатно ждут на проселочной дороге появления некоего человека, которого называют Годо. Двухактная пьеса начинается и кончается исходным положением. Годо так и не появляется.
В газетах пишут: “…в пьесе ничего не происходит — причем дважды…”. Беккет приобретает известность.
Когда они, наконец, начнут кое о чём догадываться, у них отыщется завалявшаяся Нобелевская премия по литературе 1969 года с вложенной между банкнотами запиской: “За новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом”.
Если бы я был Беккетом, то не приехал бы на вручение. Я бы послал за деньгами и запиской своего лондонского издателя Джерома Линдона. Джером надежный человек.
Про меня бы писали: “Лишь немногочисленные счастливцы видели Беккета произносящим речь”. И это правда.
Что я могу им сказать? Они всё равно ничего не понимают. Вернее, им слишком ясно, что здесь что-то непонятное, и этого достаточно, чтобы они обходили его стороной. Они боятся прикоснуться к нему по-настоящему. Не понять, как следует. На самом деле непонимание и абсурд того, что происходит вокруг нас в жизни, — гораздо глубже, чем они могут не понять.
Когда режиссер Ален Шнайдер спросил у Беккета: “Кто или что такое Годо?”, он ответил: “Если бы я знал, я бы об этом рассказал в пьесе”.
Если мир абсурден и бессмыслен, если вопросы о смысле жизни остаются без ответа, единственным спасением становится любовь. Попытки разрешения проблемы снаружи обречены на провал. Нужно быть здесь, внутри, с близкими людьми. Чем ближе ты можешь быть, тем ты счастливее.
Последние пьесы Беккета становились всё короче. Количество актеров уменьшалось до одного или сводилось к вещающему из темноты рту.
В самой последней пьесе умер он сам.
Если бы я был Беккет, то исчез бы так же случайно, как и появился. Потому что остановка сердца так же вероятна, как и его функционирование. Смерть? Ну и что? Смерть не избавит нас от тщетного ожидания Годо. Годо можно также безуспешно ждать и на той стороне.
P.S.
Эстрагон: Может, повеситься?
Владимир: Чтобы встал?
Эстрагон (взволнованно): А что, от этого встает?
Владимир: Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Куда капля упадет, там вырастают мандрагоры. Потому они и кричат так, когда их вырывают. А ты разве не знал?
Эстрагон: Давай скорее вешаться.
Виталий Ченский вошел в образ Беккета и подготовил эту необычную статью.
Скачать Беккета произведения можно здесь
Подписывайся на наш Facebook и будь в курсе всех самых интересных и актуальных новостей!


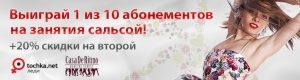







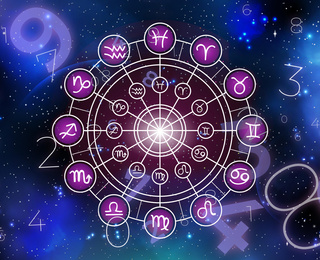





Комментарии