Трудно говорить о книге, которая, как в данном случае, вышла “не у нас” и которую наш читатель не сможет приобрести в магазине или взять в библиотеке. Впрочем, три из четырех произведений, вошедших в сборник, были в свое время опубликованы “у нас” (повесть “На Верхней Масловке” и рассказ “Один интеллигент...” вошли в московские, “доотъездные” сборники Дины Рубиной, а повесть “Во вратах твоих”, после опубликования в Израиле, увидела свет в пятом номере “Нового мира” за 1993 год).
В нынешнем сборнике произведения сгруппированы по жанровому принципу – сначала идут две повести, потом – два рассказа. Но представлять их читателю хочется в ином порядке – по внутренне-содержательному, тематическому их наполнению, ибо “Верхняя Масловка” и “Один интеллигент...” связаны и объединены темами вечными, общечеловеческими, а в рассказе “Яблоки из сада Шлицбутера” и в повести “Во вратах твоих” появляется и властно заявляет о себе национальная тема – поиски ответов на вечные вопросы: кто я, где я и что я здесь делаю? “Сшивает” все написанное Рубиной – единство героя (обычно это – женщина, русская по исходному самоощущению, независимо от “крови”) и, что самое главное, – единство стиля.
Эксцентричное название сборника “Один интеллигент уселся на дороге” (слова из озорной и неприличной песенки) поначалу кажется излишне игривым и замысловатым. Однако, постепенно это впечатление исчезает, ибо единственным героем Рубиной выступает именно интеллигент, и притом интеллигент “в дороге” или же – “усевшийся на дороге”.
“На Верхней Масловке”
Повесть “На Верхней Масловке” – история взаимоотношений старухи скульптора Анны Борисовны и ее молодого друга театроведа Пети, вернее, история их взаимомучительства, дружбы-вражды и любви-ненависти. При первом же знакомстве с Анной Борисовной вспоминаются “великие старухи” Мария Юдина, Анна Ахматова, Анна Голубкина. Героиню повести действительно роднят с ними отдельные жизненные черты – фанатичная преданность искусству, сила духа, бытовой “нигилизм”, некоторые биографические ситуации. Всё же не следует здесь слишком увлекаться поисками прототипов. Отталкиваясь от реальных людей и судеб, Рубина неизменно создает в своих произведениях (даже откровенно автобиографических) образы достаточно обобщенные и внутренне насыщенные. Что же до Анны Борисовны, то нрав у нее воистину кошмарный: дремучий эгоцентризм, высокомерное пренебрежение условностями человеческого общежития, убийственная насмешливость, страсть к ссорам, неряшливость и многое другое, что так ранит и унижает окружающих. Самый близкий из них – Петя. Он привычно впадает в истерику после очередной старухиной выходки, не жалеет на нее бранных слов: “житейский идиотизм”, “она жаждала крови”, “любила жрать человечину” и т. п. Вся кривая их отношений полна обид и непонимания. И с точки зрения здравого житейского смысла мы вслед за ним как будто вправе осудить Анну Борисовну. Но хочет ли этого автор? Думается, что не хочет и временами, наоборот, откровенно любуется своей нелепой героиней, ее жизненной силой. И вопреки всему уходит она из жизни победительницей, а не жалкой, смешной, нищей старухой.
Дело, видимо, в том, что, тщательно выписывая все перипетии бесконечного психологического поединка Пети и старухи, автор имеет в виду и другой, куда более важный спор – вечный спор между сухим, честным и прямым Разумом, с одной стороны, и Талантом – с другой. Спор обыденного сознания с тем “огнем, что просиял над целым мирозданием”, спор Критика с Поэтом. Анна Борисовна размышляет: “...кому и когда, со времен сотворения мира, ум заменял талант? Да, талант, талант... богоданная способность рожать, вечное диво на вечно живой земле...” Лишь после смерти старухи Петя понял, что она питала его “своей драгоценной любовью к жизни. Все эти годы он жил за счет ее энергии, от электрической сети ее таланта и мужества”.
Писательница работает в гуманистической традиции русской психологической прозы, обозначив себе особую, только ее нишу. В ее прозе обязательны сочетания любви с насмешкой, иронии с жалостью, жизненной точности со вкусом к жизненному же абсурду. И еще редкая, виртуозная живописность письма, когда каждая строчка – найденный, оригинальный образ.
“Один интеллигент уселся на дороге”
Героиня рассказа “Один интеллигент...” – корректор. Прочитав миллионы чужих строк, ей тяжело говорить “от себя” – обо всём уже всё сказано, написано в тех книгах, которые ей довелось редактировать: сквозь весь рассказ слышится рефрен: “и про это было уже у какого-то писателя”. Но, в то же время, объем прочитанного помогает рассказчице повествовать по-новому, именно в духе своего собственного словотворчества. Этот небольшой рассказ, как и многие другие вещи Рубиной, выстроен как музыкальное произведение, где основная, трагическая тема неудавшейся, нелепой любви рассказчицы к недостойному, смешному и жалкому человеку “cпрятана” в обрамляющие и пронизывающие рассказ “перебивы”, в ироничные, подчас едкие, описания обитателей писательского Дома творчества. Беглые портретные зарисовки здесь воистину прелестны: сварливый акын, сочиняющий свои среднеазиатские байки в комфортабельном подмосковном поместье; глуповатая старая дева – специалист по детской литературе; “голубые” соавторы – грубоватый Миша и томный хрупкий Руся, выстукивающие на машинке роман в новом, мужественном стиле “библеизма”. Тут же приводится образец: “И пришли они к женщине этой. И было это в седьмой день, воскресенье. При них выпить было, и много желали они веселиться. Но дверь эта женщина не отворяла. И возопил тогда Вася: «Откроешь ли ты, б***ь, в светлое воскресенье Господне?!»”.
А в самом конце рассказа вдруг возникает просвет, иллюзорный выход, обращение к чему-то высшему. В небе появляется неопознанный объект, а внизу суетится кучка растерянных людей – каждый со своими бесплодными, корыстными интересами. Рассказчица смотрит в небо и ей становится “до смешного жаль того огромного, неведомого, одинокого, который зачем-то создал всех нас по своему подобию...”
“Яблоки из сада Шлицбутера”
“Яблоки из сада Шлицбутера” – возможно, самый сложный в книге рассказ, самый насыщенный изысканными метафорами и сравнениями. Действие в нем протекает сразу в четырех временах: сегодня, в период “повальной гласности”; в недавнем “застойном” прошлом, когда, собственно, и разворачиваются основные события рассказа; в том сравнительно далеком времени, куда переносят нас детские воспоминания героини Дины – литераторa; и в годы войны, когда Дины еще не было на свете и о том времени она знает лишь со слов старших. В рассказе причудливо всплывают неожиданные мотивы. Вдруг возникает заблудившаяся чеховская Каштанка: “Молодая рыжая собака – помесь таксы с дворняжкой, – очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам...”. Эта цитата впервые звучит в контексте детских воспоминаний Дины и отзывается в конце рассказа, когда возникает мучительный вопрос: чья я?
Сюжетная канва рассказа достаточно проста: героиня прилетает из Ташкента в Москву, чтобы выполнить чужое поручение – отнести в редакцию еврейского журнала “рассказ узбекского писателя на русском языке, на еврейскую тему”. В редакции происходит странный, местами – нелепый, разговор со стариком редактором и его дочерью (сразу на двух языках – русском и идиш). Во время беседы выясняется, что героиня понимает идиш – этот, как ей казалось, давно забытый и ненужный ей язык. Оказывается, что старик редактор – земляк ее ташкентского деда (все они – из местечка Золотоноша) и что этот очень старый уже человек с изможденным лицом был когда-то безнадежно влюблен в родную тетку героини, зеленоглазую красавицу Фриду. Старик узнает, что Фриду повесили немцы, а перед казнью “ее гнали, обнаженную, десять километров по шоссе – прикладами в спину...” Этот удивительный разговор демонстрирует, что даже в маленькой редакции верноподданного журнальчика – люди решают важнейшие вопросы: чей я, где мое место и “ехать–не ехать”. Речь старого приспособленца редактора исполнена глубочайшего трагизма и истинной человечности: “...я прожил здесь жизнь, и я хочу здесь умереть, и оставьте все меня в покое!.. Да, я старый ишак, и у меня нет национального самосознания. Например, я плачу, когда слышу украинские песни... Когда я слышу «Марш энтузиастов», я тоже плачу, как старый ишак, потому что Фрида играла этот марш на мандолине... Ну, скажи мне, скажи ты, я уже ничего не понимаю: вот я – трижды ранен и в качестве видного космополита украшал-таки собою нары. Вот скажи: я – герой или старый хрен?” Закономерный вопрос. Но почему же до сих пор трагичный?
“Во вратах твоих”
Эта повесть, пожалуй, более саркастична и гротескна, чем предыдущие вещи Рубиной. Героиня, тщательно скрывающая то, что она – писательница (так ей посоветовали знающие люди), устраивается накануне “бури в пустыне” в некую полунищую и полужульническую издательскую “хевру”, перебивающуюся случайными заказами и, в конце концов, с треском прогорающую. Попутно перед читателем проходит вереница колоритнейших персонажей, пестрый хоровод странных людей, достоверно-жизненных в каждом своем поступке, жесте и слове и в то же время – совершенно фантасмагоричных и абсурдных по сути. Конкретность и эксцентрика слиты здесь так натурально и так немыслимо, как это может произойти в сознании человека, переместившегося с одного конца планеты в другой – словно в теплушке “бешеного” поезда, мчащегося черт знает куда.
“Нормальный” советский гражданин, привыкший к одному абсурду, попадает в абсурд другой. Человек страстно желает телом и духом войти в новую жизнь и ежеминутно ощущает полную невозможность уйти от старой. Героиня все время путается, “спотыкается” о слова “мы”, “наше”: “что это – здешнее уже или тамошнее?” Новые впечатления вызывают прежние ассоциации: “Пейсы его развязались на затылке и упали на грудь, как рассыпавшиеся пряди спившейся прачки...”
Зная по опыту, какие вопли негодования вызывали у нас в недавнем прошлом вещи, подобные этой повести (дескать, с кого портреты эти пишут?), мы легко можем предположить, что и в сегодняшнем Израиле “Врата” далеко не всем пришлись по вкусу. Как странно похожи в изображении Рубиной израильские жулики и проходимцы на деятелей нашего родимого советского административно-пропагандистского аппарата! Неоспоримо похож на них прежде всего некто Яша Христианский, главный редактор фирмы “Тим'ак” – эдакий “комиссар” с неизменной портупеей и револьвером под мышкой, с постоянной присказкой “Не за то боролись!” и неуемной страстью унижать беззащитных.
Однако в повести есть прекрасный образец “положительного героя” – сотрудница и подруга автора Катька, отчаянная “савеловская девчонка” с извечной еврейской жаждой справедливости и мгновенной готовностью лезть за нее в драку. И в то же время она наделена невиданной, “глубинной, первозданной добротой” и, опять-таки, мгновенной готовностью помочь любому, кто в этом нуждается.
Горько-ироничная повесть “Во вратах твоих” заканчивается картиной веселого и шумного карнавала в честь праздника Пурим, а заодно и в честь победы над злодеем Саддамом. Состояние “неприсутствия” героини тем более контрастно на фоне общей радости праздника. Мистическая фраза “меня... нет” наполняет ее ощущением душераздирающего ужаса. Устами героини Дина Рубина взывает к небу: “Дай заработать, Господи!! Дай за-ра-бо-о-о-та-а-ать!!!” Однако всё не так безнадежно, как представляется. Наверняка, найдет она работу и всё будет так, как о том утешительно говорит ей по телефону приятель – пьяненький бездомный поэт Гриша Сапожников: “Ничего... Всё наладится... Всё наладится, к чертовой матери...” Что это? Смех сквозь слезы? Скорее ободряющий совет смеяться, чтобы не плакать в нашем запутанном мире.
По материалам www.dinarubina.com
Підписуйся на наш Facebook і будь в курсі всіх найцікавіших та актуальних новин!







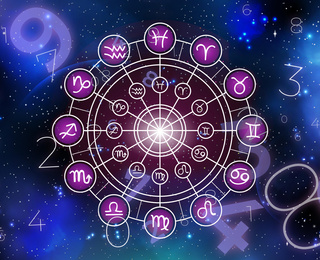





Коментарі